Вы не можете просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или Введите логин
Вы не можете просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или Введите логин
Костя... люди напуганы....
А людей уже почти не осталось, и кто их спрашивать будет..совершенно верно
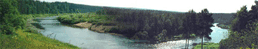 В среднем течении реки Угра
В среднем течении реки Угра
|
||
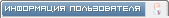
|
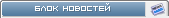
Главная страница сайта: Вы не можете просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или Введите логин

|
|







|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||