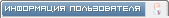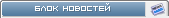Вы не можете просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или Введите логин
Оказалось, что в школе в Слободке было большое количество материалов по войне. В первую очередь воспоминания ветеранов, которые собирали школьники. Потом приехал какой то человек, представился корреспондентом из Москвы и все забрал. Обещал вернуть, но так и исчез.
А может в школе Климов Завода аналогичные воспоминания остались?! Ветераны могли из школы Слободки в Климов З. заезжать, или наоборот.............может там тот же "корреспондент" побывал и так же "забыл " вернуть